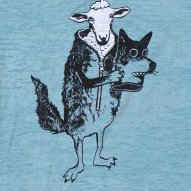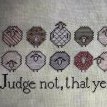Таблица лидеров
Популярные публикации
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 19.10.2021 во всех областях
-
2 баллаТут надо учитывать, что православие тогда было государственной религией, и преступления против веры автоматически становились преступлениями против государства. А митр. Стефан Яворский он тем более обучался у католиков, яркий представитель западного православия, а оно всегда немного тяготело к католическим взглядам типа схоластики и силового пресечения еретических поползновений.
-
2 баллаВот мы нередко с сокрушением говорим о том, что многие в храм заходят лишь чтобы свечку поставить в связи с каким-то особым событием. И это, конечно, плохо. Но с другой стороны, это означает, что даже у невоцерковленных людей есть внутреннее ощущение вектора в Небо. И этот вектор в их сознании связан с храмом, в котором как бы сама по себе идет особая жизнь. А если в семье у них есть верующий, то хоть они и не идут за ним, и даже насмехаются, но всё равно его причисляют к той самой особой жизни, время от времени просят подать записочку или освятить что-то. Им кажется, что всё это существует как бы само по себе. Но это "само по себе" стало возможным, потому что из поколения в поколение миллионы "плохих" христиан несли в храм свои несовершенные молитвы, как могли старались жить по учению Церкви и т.д. Это и есть тот самый народ Божий, без которого никто не мог бы надеяться, что после его смерти на его могиле поставят крест. А это уже немало.
-
2 балла
-
1 баллЕретик, наверное, одно из самых страшных отпадений. Говорили об авве Агафоне: “Пришли к нему некие, услышав, что он имеет великую рассудительность. Желая испытать его, не рассердится ли он, спрашивают его: “Ты – Агафон? Мы слышали о тебе, что ты блудник и гордец.” – “Да, это правда,” – отвечал он. Они опять спрашивают его: “Ты, Агафон, клеветник и пустослов?” – “Да, я,” – отвечал он. И еще говорят ему: “Ты, Агафон, еретик?” – “Нет, я не еретик,” – отвечал он. Затем спросили его: “Скажи нам, почему ты на все, что ни говорили тебе, соглашался, а последнего слова не перенес?” Он отвечал им: “Первые пороки я признаю за собой, ибо это признание полезно моей душе, а признание себя еретиком значит отлучение от Бога, а я не хочу быть отлученным от моего Бога.” Выслушав это, они подивились его рассудительности и отошли, получив назидание.” (Древний патерик)
-
1 баллНе грустите, Светлана. Наше дело - исповедовать веру жизнью, а Божие - оживотворять маленькие зёрнышки нашего поведения в ростки веры в наших ближних. Мы, конечно, мало что можем, не так, как могли святые, но Бог может всё. Припомнились мне по этому поводу два случая из воспоминаний о преп. Варсонофии Оптинском. Они оба - по ссылке, один приведу здесь. Записи С. А. Нилуса "«Сей пшеницу, отче Тимоне!» — сказал некогда преп. Серафим своему собеседнику. Годовой праздник Оптиной пыстыни. Ходили поздравлять старцев с праздником. О. Варсонофий сообщил жене следующее: «Приходит сегодня ко мне молоденькая монашенка и говорит: — «Узнаете меня, Батюшка?» — «Где» — говорю, — «матушка, всех упомнить? нет не узнаю». — «Вы меня», — говорит, — «видели в 1905 г. в Москве на трамвае. Я тогда еще была легкомысленной девицей, и вы обратились ко мне с вопросом: что я читаю? А я в это время держала в руках книгу и читала. Я ответила: Горького… — Вы тогда схватились за голову, точно я уже невесть что натворила. На меня ваш жест произвел сильное впечатление, и я спросила: что–ж мне читать? И припомнились мне тут слова преподобного Серафима, сказанные им иеромонаху Надеевской пустыни — Тимону: — «Сей, отче Тимоне, пшеницу слова Божия, сей и на камени и на песце, и при дороге и на тучной земле, все где-нибудь и прозябнет семя–то во славу Божию». Вот и прозябает". (Слово, приведшее к вере)
-
1 баллАрхиерея в храме всегда встречают торжественно… — В русской традиции было даже такое: архиерея встречали у его дома и с пением сопровождали до храма. Сейчас этого нет, но, когда архиерей подходит к дверям храма, его встречают колокольным звоном, а когда он переступает порог, настоятель храма на специальном блюде, покрытом воздухом, выносит ему навстречу крест. Архиерей целует крест, дает его для целования духовенству, затем священник возвращает крест в алтарь. Дальше, если это вечерня, то архиерей поднимается на амвон, целует иконы, благословляет народ и входит в алтарь. Если это Литургия, то епископ входит в алтарь не сразу. Протодиакон читает входные молитвы. Они те же, что и на обычном богослужении, но если пресвитер перед входом в алтарь читает их тайно, то в данном случае протодиакон — возгласно. Архиерей поднимается на амвон, на амвоне читается главная молитва из входных: «Господи, ниспосли руку Твою…» — и затем владыка, как всегда перед совершением Литургии, просит у духовенства и народа прощения. Протодиакон отвечает: «Бог да простит тя, владыка святый, прости нас и благослови». Далее архиерей возвращается на архиерейский амвон, и начинается облачение. — Почему облачение епископа происходит иначе, чем облачение священника — не в алтаре, а у всех на глазах? — Так бывает не всегда, архиерей вправе облачиться и в алтаре. Но облачение на середине храма соответствует торжественности архиерейского богослужения. Кроме того, вход архиерея в алтарь — это кульминация богослужения. Поэтому в большинстве случаев архиерей облачается до входа в алтарь. Так было и в древности. Только на архиерейском богослужении мы можем непосредственно увидеть, как совершается облачение духовенства вообще. — Чем облачение архиерея отличается от облачения священника? — Такие предметы собственно архиерейского облачения, как митра и панагия, вторичны, они появились достаточно поздно в истории Церкви. Главное и древнейшее отличие — омофор. Без омофора архиерей не может совершать богослужение. Слово «омофор» в переводе с греческого означает «носимый на плечах». Символически омофор означает ту самую овцу, которую пастырь поднимает на плечи (см.: Лк. 15, 5): архиерей призван подражать Христу в попечении о каждой овце, о каждой душе в отдельности. При возложении на архиерея омофора протодиакон произносит: «На рамех, Христе, заблуждшее взяв естество, вознеслся еси, Богу и Отцу привел еси всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь». Остальные молитвы на облачение архиерея совпадают с иерейскими. Только первое лицо заменяется вторым, потому что произносит их вслух другой человек — не сам облачаемый. Например, вместо «Да возрадуется душа моя…» (надевание иереем подризника или подсаккосника на архиерея) — «Да возрадуется душа твоя о Господе…». Конечно, добавляются молитвы на те элементы облачения, которых нет у священника. Надевание митры, например — «Положи Господь на главу твою венец от камений драгих…». По окончании облачения протодиакон торжественно возглашает: «Тако да просветится свет твой пред человеки, яко да видят добрая дела твоя и прославят Отца нашего, Иже есть на небесех, всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь» (это — парафраз Мф. 5, 16). — А когда же архиерей входит в алтарь, если он совершает Литургию? — За Литургией архиерей входит в алтарь только после малого входа (входа с Евангелием). Почему так? Часть Литургии, предшествующая малому входу, появилась относительно поздно, и примерно до Х века воспринималась как нечто необязательное — ее могли и опустить. Для ранних христиан Литургия начиналась с момента входа священнослужителей с Евангелием в алтарь. Поэтому сейчас архиерей входит в алтарь в тот момент, который является древним началом Литургии. — Таким образом архиерейское богослужение возвращает нас в первые века христианской Церкви? — Можно сказать, в V–VII век. До малого входа Литургия идет обычным чином: архиерей находится на архиерейском амвоне и тайно читает молитвы антифонов. Вход архиерея в алтарь совершается более торжественно, чем вход на обычной Литургии, входный стих («Приидите поклонимся и припадем ко Христу») поется несколько раз. Сразу после малого входа архиерей совершает каждение. С V по VII век именно с этого начиналась служба: епископ входил и совершал каждение. Именно в это время хор поет «Исполла эти деспота» — в переводе «На многие лета, владыко». Немаловажная подробность: именно чинопоследование архиерейского богослужения включает песнопения на греческом языке. (На обычном иерейском богослужении пение погречески не обязательно, это выбор настоятеля храма). Перед чтением Апостола на греческом поется Трисвятое («Агиос о Феос, агиос Исхирос…»). Трисвятое поется не три раза, как обычно, а семь раз; после первых трех архиерей выходит на амвон и говорит слова: «Призри с небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди и, егоже насади десница Твоя» (см.: Пс. 79, 15–16), благословляя народ крестом и дикирием. Виноград — народ Божий, в псалме эти слова относятся к ветхозаветному Израилю, а для нас — к Церкви. По завершении облачения архиерея поется «Тон деспотин кэ архиереа…» — молитва за архипастыря. Пение на греческом объясняется тем, что Русская Церковь долго была митрополией, и до середины XV века ею управляли греческие митрополиты. ( Полностью статья https://pravoslavie.ru/78930.html ) https://youtu.be/UHFs7F925rM
-
1 баллУ меня такая ассоциация, что этапы в моей жизни и людей из этих этапов можно сравнить с листами календаря или срываемыми ветром осенними листьями: вот какой-то период жизни закончился, листок календаря перевернулся или осенний лист улетел, и люди прошли рядом и ушли, как были неверующими, так и являются ими. Как масло не смешивается с водой, а разделяется с ней, так и я не могу быть в настоящей общности с ними, и мы расходимся. Сколько еще осталось таких листочков, как скорбны эти разделения...
-
1 баллЛидия Сергеевна Запарина СКУПОЕ СЕРДЦЕ Сырой осенний вечер. С подарком в руках спешу на именины. Пройдя Красную площадь, направляюсь к Охотному ряду. У стены дома рядом с женщиной, продающей заграничные перчатки, — военный. Он о чем- то невнятно просит, но люди спешат, и на него никто не обращает внимания. Из-под распахнутой шинели поблескивают ордена, в руке — палка. «Военный, и просит...» Вынимаю из кармана мелочь и подаю. — Не нужно! Скажите, как мне домой доехать? Женщина с перчатками возмущенно шипит: — Вот напился — до дома дороги не найдет... А еще говорит, что капитан. — Где вы живете? Молчит и тяжело опирается спиной о стену дома. Не получив ответа, прячу деньги в карман и с облегчением отхожу: пусть не напивается до потери сознания... Мои каблуки звонко стучат по асфальту. И вдруг — толчок в сердце: а как этот человек доберется до дома, если все, как я, пройдут мимо? Замедляю шаги, становится досадно: не возвращаться же к нему...«Военный, демобилизован, с палочкой», — вертится в мозгу. Как притянутая веревкой, поворачиваю обратно и с надеждой думаю: «Может быть, кто-нибудь уже помог». Нет, стоит на месте: невысокий, худой. — Куда вам ехать? — А где я? — На Красной площади. Проводит по лицу грязной рукой без двух пальцев. — Ничего не понимаю: был у товарища, выпили, а я контужен, вот и развезло... Мне в Сокольники надо. Рассказываю, как добраться. Мотает головой: — Не найду, туман здесь, — стучит себя по лбу. «Неужели я должна довести его до метро?! А если кто-нибудь из знакомых увидит меня с этим пьянчугой?» Военный тоскливо поводит плечами, видно, что он вконец измучен. С усилием предлагаю: — Пойдемте, я провожу вас. Идем рядом. Ноги ему плохо повинуются, но он старается изо всех сил, размахивает свободной рукой и постукивает палочкой. Начинает длинно жаловаться на милиционеров, которые его куда-то не пускали. Одергиваю, чтобы не бранился. — Извините, не буду. Вы не думайте, что я всегда такой был... Нет! Воевал! От Москвы до Берлина дошел. Сам Жуков наградил. Потом ранили... — Он вздыхает и спотыкается. Подходим к метро. В ярком свете ламп фигура пьяного выступает во всей неприглядности. — Вот мы и у цели. Теперь входите в эту дверь, а потом — на эскалатор. До свиданья, — с облегчением говорю я. Военный смущенно качает головой: — Одного меня милиция сюда не пропустит. Раздраженно соглашаюсь: — Хорошо, пойдем вместе. — Все равно не поверят, что я с вами, — мнется военный. — Боже мой! Что же надо сделать?! — Возьмите меня под руку, — не глядя в лицо, шепчет он. Смотрю на его спину, измазанную чем-то белым, на облепленный грязью подол старой шинели, оглядываю свое коверкотовое пальто и, зажмурив глаза, с отвращением просовываю руку под его холодный локоть. Входим. Контролерши с недоумением оглядывают нас. На эскалаторе военный робко жмется ко мне. Мое раздражение гаснет, я ободряюще улыбаюсь ему, хочу полов- чей поддержать, но делаю неосторожное движение и выбиваю палку из его руки. Он теряет равновесие и падает. Мужчина в фетровой шляпе подхватывает палку, кто-то сзади поднимает упавшего и помогает сойти со ступенек. Оборачиваюсь, чтобы поблагодарить, и замираю: милиционер... Он сейчас заберет моего пьяненького! Не ожидая, пока это случится, хватаю его под руки и торопливо говорю: — Это мой знакомый, он не один, а со мной. Милиционер усмехается: — Не безпокойтесь, гражданочка, все понятно, — и отходит. Видимо, от всех волнений мой спутник протрезвился окончательно, так как на перрон выходит бодрым шагом. — Пожалуйста, помогите капитану доехать до Сокольников, — прошу я пассажиров. — Давайте его сюда, — откликается несколько голосов. Подходит поезд. Военный растроганно смотрит на меня: — Какая вы замечательная, какая добрая, совсем будто родная. Век вас не забуду! Он говорит еще что-то, но его вталкивают в вагон, и поезд трогается. Вижу, как на прощанье он мне машет рукой. Стою... Смотрю вслед ушедшему поезду и чувствую, как едкие слезы текут из моих глаз. Почему капитан благодарил меня, а не я его? Кто шел от Москвы до Берлина в то время, когда я отсиживалась в эвакуации? Он и миллионы других... Почему же теперь, увидев его пьяным, я не почувствовала ничего, кроме презрения? О, скупое сердце, не умеющее ни помнить, ни благодарить, как много ты должно людям!
-
1 баллСледственный комитет России представил заключительный том книги, посвященной расследованию убийства Царской семьи Версия для печати 18 октября 2021 г. 13:37 Вышел в свет третий том книги «Преступление века. Материалы следствия», подготовленной Следственным комитетом Российской Федерации и посвященной расследованию убийства Царской семьи. Трехтомное издание является полным собранием материалов следствия и исторических документов, связанных с гибелью Российского императора Николая II, его семьи и их приближенных. Книга вызвала повышенный интерес в обществе и положительные отклики, ведь она является наиболее точным и полным источником информации, которая была собрана воедино буквально по крупицам. Заключительная часть книги также наполнена интересными фактами, архивными документами. Она дает ответы на поставленные в начале повествования вопросы, опираясь на сугубо научные исследования, результаты экспертиз, фотографии и аудиозаписи. Благодаря проведенной кропотливой работе, современным высоким технологиям у следствия не осталось сомнений касательно версии гибели Царской семьи и принадлежности останков. Итоги расследования этого преступления признаны на международном уровне. Издание станет существенным подспорьем для всех, кто заинтересован в установлении истины и достоверности трагических событий прошлого, ведь это совместный труд следователей, криминалистов, ученых, историков-архивистов, представителей гражданского общества и всех неравнодушных людей.